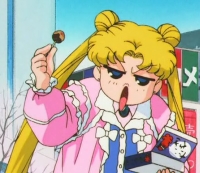Мать Тереза совершает смертный грех в чистилище(с)
Очередная текстовка от Тинкер Белл.
ТЕКСТ 2
читать дальше– Я решила почистить желудок, не есть мясо, молоко, яйца и масло. Это все не просто так придумали, в этом есть рациональное зерно.
Он скосил глаза на постное лицо племянницы. Строго говоря, она была ему никто – племянница жены его сводного брата, но появлялась на пороге его палаты чаще всех кровных родственников вместе взятых. Садилась на стул у кровати и самозабвенно вещала о своем житье-бытье, зарабатывая себе путевку в буддийский рай, или куда там еще она намылилась после смерти. Принадлежала она к тому сорту женщин, что в 25-ть и в 45-ть выглядят одинаково пресно и о себе полагают, что под невзрачной внешностью скрывается натура незаурядная, а правильнее сказать, придурочная. Он ее хорошо изучил.
– Сперва я не знала, что же кушать, но оказалось, что без мяса можно приготовить множество интересных и полезных блюд. Овощные супчики, печеные на гриле овощи, фрукты – никакой химии.
Не сдерживая болезненной гримасы, он поправил подушку за спиной и попытался поудобнее угнездиться в кровати. Ноги болели немилосердно, и то, что нога была всего одна, дела не меняло. Болели – ноги, обе.
– Люди так жестоки! Как можно кушать тех, кто смотрел на тот же мир, что и они? Видел это голубое небо, эти белые облака? Блюда из мяса пахнут трупом!
Он стиснул зубы. Вместо племянницы у кровати сидел Лопушок, по-прежнему 23-летний, лопоухий и веснушчатый, смущенно и виновато улыбался, прикрывая ладонью аккуратную дырку на лбу. «Пусть ее», – произнес одними губами. Там, в проклятой долине, Лопушок трепался, не затыкаясь, страх извергался из него словесным потоком, а рассказывал он о любимых кушаньях, что готовит его мамочка. О вишневом пироге, о запеченной бараньей лопатке, о картофельном пюре, нежном, без единого комочка, о курице, тушеной со сладкой кукурузой. Когда на завтрак, обед и ужин получаешь галеты с тошнотворной консервой и глоток гнилой воды, слушать непрерывно о воскресном ужине то еще испытание. Лопушка высмеивали и незаметно от сержанта били, потом оставили и как-то притерпелись к безостановочным одам о зеленом горошке и порезанной кольцами солнечной моркови. Когда сидишь по уши в болоте, весь в парше и собственном дерьме, единственное, что заставляет тебя оставаться человеком, – мысль о начищенной до блеска кастрюльке в штате Теннесси, в которой по воскресеньям твоя мама делает тефтельки.
Но здесь и сейчас почему он должен выслушивать все это заново?
– Сколько можно говорить о желудке?! – он обнаружил, что кричит в вытянувшееся лицо племянницы, а палата вращается по кругу. – Тебе поговорить больше не о чем?
Откуда-то сбоку вынырнула Милочка со шприцем, и палата притормозила вращение, а потом плавно взлетела вверх, за круглыми окнами со смешным названием «иллюминаторы» проплыли ватные облака, и ничего не болело и не могло болеть, потому что ему было снова восемь, он был девочкой с тонкими косичками, что летела на самолете с мамой и папой к морю, навстречу летнему долгому отпуску и долгой-предолгой счастливой чистенькой жизни, и это было так хорошо, что не хотелось просыпаться.
ТЕКСТ 3
читать дальше
Са-ма-лёт! Са-ма-лёт!
По узкому проходу между креслами мама тянет за руку куда-то вперед. Са-ма-лёт!
Папа долго говорил о том, как они полетят, как са-ма-лёт уберет закрылки, как он будет набирать высоту, как будет закладывать ушки и надо делать вооот так, и смешно надувал щеки. Са-ма-лёт.
Почему-то кресло очень колючее. Мам, оно колется! Я хочу на ручки! Сзади сидит дяденька, он улыбнулся. Мама говорит: не крутись. А кресло колется, на ручки нельзя, потому, что я уже большая, мне купили билет, тут иллюминатор.
Холодное стекло, и колючее кресло. С ногами на кресло тоже нельзя, папа застегнул ремень и подмигнул, снова сказал про закрылки и ушки. А я не хочу надувать щеки.
- Мам, я хочу пи-пи.
Вместо пи-пи – леденец. Моя кукла в папиной сумке, я по ней уже соскучилась, но сумку у нас забрали и привязали на нее желтенькую бумажку. Папа сказал, что я получу и бумажку и куклу, когда прилетим.
В иллюминаторе побежала земля, деревья стали мельтешить, как будто мы едем на папиной машине за город. Мам, смотри. Пап, смотри.
Холодное стекло, а за ним – уходящий за горизонт яркий диск закатного солнца. Солнце становится ближе, а земля оказывается где-то внизу, и, правда, закладывает ушки.
Мама прижимает к себе, и розовые облака в иллюминаторе кажутся шариками сладкой ваты, которую продают в парке аттракционов.
- Спи, детка.
Вот уже и вечер, солнце - за горизонт, где-то наступает утро.
Кубинские сигары, едкий дым, разбавляющий минорную ноту закатного пейзажа… Ставка на «Белую лошадь», чтобы не мучила совесть, казалось бы, задорого проданная и давно забытая.
Розовые облака, как сахарная вата из детства…. вы любили бегать в парк и покупали один шарик на двоих…. на два просто не хватало денег…
Злое кольцо дыма, терпкого, едкого, но сквозь дым чудится легкий летний день, быстрые ноги по траве за голубым воздушным змеем, нетерпеливо дергающим веревку, требующим высоты и свободы.
Высоты и свободы. Да.
Ставки сделаны…. На белую лошадь…. Темная лошадка проиграла и получит пулю в висок. Лошадей пристреливают, если они больше не приносят прибыли, если они везут не туда, пристреливают, несмотря на то, что были верны и ели из рук.
Солнце уходит за горизонт, скрыв сахарную вату воспоминаний, принятое решение уже не кажется таким неправильным. Ничего личного – это деловой подход.
ТЕКСТ 4
читать дальше
Солнце на закате в этот время года кроваво-красное, цвета спелого тарокко. Оно было достаточно ярким, чтобы дорожка от горизонта пролегла до самого причала, но уже таким, что на него можно было смотреть, не щурясь и не поднося руку к глазам. Он любил это время. Огромная веранда его загородного дома была обращена на море, несмотря на то, что все поколения его предков, так же страстно любящих море, никогда не обращали окон на море. Причина была в трамонтане, дующей с Альп, трамонтане, приносящей холод, ясную погоду и безумие. Трамонтана лишает рассудка - так говорили его предки и заколачивали окна на те долгие дни, когда дикий ветер обрушивался на их землю. Но он слишком любил море и поэтому закрыл веранду толстым слоем непробиваемого стекла, только бы не лишать себя радости. Это стекло защитило его от двух пуль "беретты", но не защитило от микробов безумия. Сегодня за завтраком, ковыряя вилкой яйцо-пашот, он обнаружил, что яйцо было двухжелтковым. Внезапно вспомнив, что бабушка почитала несчастливым тот день, в который хоть одна курица приносила такое яйцо, он тихим голосом отдал капо приказ убрать первого же, кто позвонит или придёт к нему. Никто не виноват, что им оказался тот, с кем он в детстве удил рыбу со скал, тот, на чью сестру он не смел поднять глаз, а во время её свадьбы убежал в поле и плакал в голос. Это судьба, а я всего лишь её орудие, сказал он себе, и, подчиняясь единственному закону своей родины, закону сиесты, закрыл глаза...
...чтобы открыть там, где масло давят уже не из олив, а из кукурузы, на другом краю земли, под другим небом, в другом теле, открыть на рассвете в душной палате от страстного желания курить, так и не оставившего тело за всё время пребывания в аду. Она думала в детстве, что ад - это огонь, котёл и кипящее масло, но оказалось, что ад - это когда тебя слушают, но не слышат. Когда всё, что говоришь, оказывается твоим приговором, а лишняя слезинка или всхлип неминуемо влекут за собой укол трементина, от которого ноги распухают и становятся как тумбы. Это когда муж, улыбаясь, говорит лечащему врачу: "Она всегда была такой эмоциональной", вместо того, чтобы вонзить ручку с золотым пером ему в глаз, оттолкнуть толстую охранницу и унести её отсюда. А когда ты в припадке бешенства разбиваешь портрет президента в холле, тебя поливают ледяной водой из шланга. И утром, проснувшись в собственных нечистотах, привязанная к кровати за запястья и щиколотки, ты кричишь, пронзительно кричишь, теперь уже как настоящая сумасшедшая.
ТЕКСТ 5
читать дальше
Когда я распахнула окно - посчитать, сколько там этажей до забора (надо сказать, наша палата весьма удачно повернута окошком к высоченному дубу), из другого окошка - окошка больничной кухни, что на первом этаже, запахло пирогом с патокой. Настоящим пирогом, я чуть не прослезилась и вжалась в решетку, чтобы вобрать запах во все легкие, настолько он был вкусный и родной. Пахло вот таким же точно пирогом, как ма готовила в детстве, и Большая Джорджия сетовала:"Мистрис Нэнси, вы испортите пирог, переслащивать куда хуже, чем недосластить. Кто ест несладкое, тому Господь по ложечке подслащивает жизнь, а кто себя балует сладеньким, к тому дьявол присматривается", а Малая Джорджия крутилась у материнской юбки, мы с ней словно два мышонка выскакивали на кухню на этот чарующий аромат, хотя никто никогда не давал нам пробовать ни кусочка во время готовки.
Все левое крыло погрузилось в удручающее молчание, так что я снова почувствовала себя безнадежно одинокой и потерянной посреди древнего Вавилона, расколотого на разные языки. И хотя за месяцы я стала настоящим полиглотом, различая, что хочет сказать миссис Каннингем своим потрясыванием руками перед лицом, либо юный Дерек Бейл, когда вместо ответа он карябает на бумаге жуткие каракули, тень вавилонской башни вновь накрыла мое сознание. Я была чужой среди чужих, нелепо занесенной ураганом путешественницей, не нашедшей свою дорогу из желтого кирпича.
Я с силой запахнула створки, спрятав за спиной воспоминания, будто их кто-то мог подсмотреть или даже выкрасть. В такие моменты мне кажется, что глаза мои похожи на телевизор, в котором идет передача о моей жизни, и любой, кто бы ни встретился взглядом со мной, непременно подсмотрит самые интимные или постыдные вещи, скрытые за этой черепной коробкой.
Поцелуй с Кайлом Финчем на заднем сиденье родительского автомобиля, или, может, со дна глаз всплывет мамина юбка цвета морской волны, которую я тайком надевала, размахивая полами как крыльями летучей мыши, и, однажды испачкав, запихивала в гараже в ящик, чтобы сделать вид, что она просто потерялась. Или первая сигарета, которую мы раскурили с Джин Хэмилтон на заднем дворе школы(Боже! я бы все сейчас отдала за сигарету! даже воспоминания) и казались себе такими взрослыми соблазнительницами, что старшеклассники непременно должны были пригласить нас на танцы в обход других дурочек. И прочие, прочие глупости, которые совершенно случайно могут вспомниться, а ты будешь стоять и думать - к чему бы это? Ведь все давно кануло в Лету, юбка истлела, сигареты (ах, как же хочется затянуться!) не являются запретным удовольствием, а Кайл Финч сейчас может похвастаться собственным авто, с трудом вмещающим его огромное пузо.
Миссис Тоби Смайли, которая целыми днями гудит как рой пчел, раскачиваясь в своем кресле, и наводит тоску даже на тех, в чьих головах еще случаются проблески рассудка, внезапно замолчала, захрипела и уставилась на меня взбудораженными глазами. Я прикрыла веки, чтобы никому, в своем он уме или нет, не удалось ухватить кусочек передачи про побег. Мне казалось, что в моих глазах можно увидеть, как выпиливается ненавистная решетка, а я Тарзаном совершаю прыжок на ветку дерева и спускаюсь уже по ту сторону забора. Мне казалось, что миссис Смайли лишит меня даже этой малости - мечты о побеге, и когда я открыла глаза, а она снова гудела и раскачивалась, я рассмеялась своим глупым опасениям.
В пять нам раздали вечернюю порцию таблеток, и я глотала свою с мыслью не забыть это восхитительное ощущение узнавания, позволить пирогу, а вместе с ним и маме, и двум Джорджиям пожить еще немного, хотя бы в моем внутреннем кинофильме. Таблетки делают меня смирной овечкой божией, но этот чудодейственный ремедиум куда-то безвозвратно забирает другое чудо - чудо человеческой памяти. Возможно, именно поэтому я так цепляюсь за все эти обрывки и эпизодики. А тот лоскуток памяти, на котором записано, как я попала в эти жуткие стены, я расправляла не раз, но так и не смогла сшить с другими
лоскутками. Вот я, промокшая насквозь, подгоняемая раскатистым громом, стучу в ворота, уже побаиваясь громады стен и еще не зная, что они окружат меня надолго. Кажется, у меня сломалась машина. Кажется, я водила машину. С сигаретой в зубах, как заправский гангстер. Ах, как бы достать сигаретку в этом постылом месте среди грозных белых халатов, крепких черных рук и пронизывающих глаз?
Поэтому - потому что память так подводит меня - я записываю сны. Дороти - молчаливая черная медсестра, ласковая как родная мать со всеми пациентами, - согласилась принести мне блокнот и когда я попросила, чтобы никто не знал и не мог прочесть его содержимое, только приложила пальчик к губам и кивнула. Ни Железный Гэри, ни миссис Норидж - суровая как скала женщина, выводящая нас на прогулку, ни за что не согласились бы. Блокнот есть у Дерека Бейла, и бедняга целыми днями рисует в нем круги и полосы, над которыми ломают головы врачи. Я же записываю сны, а записи прячу за половицей. Кажется, я уже говорила об этом?
Когда наступает время послеобеденного сна, я отгибаю старый кусок древесины и достаю свою драгоценность, чтобы перечитать и не забыть.
Иногда сны записываются по два или три раза - я думаю, если сон пришел не раз, то стоит задуматься о деталях.
Вот когда я видела себя во сне - как это бывает - одновременно изнутри и со стороны, что бы это могло значить? Ничего не происходит просто так. Знаки даются нам, чтобы мы могли действовать.
А приснившийся мне еврейский мальчик, на которого я смотрю то сверху, будто с дерева, то изнутри смотрю на него - на себя - его глазами, мальчик, который переставляет шахматные фигуры по клетчатой доске, - он ведь тоже что-то значит? Если мне снятся непонятные буквы и цифры, которыми шахматисты называют свои ходы, если дедушка, грозно посматривающий на мальчика - и меня - своим проницательным взглядом, то сон что-то должен сказать?
Сонники говорят, что любое движение и цвет во сне символичны. Миссис Хабли, упрятанная сюда за веру в «колдовство», прячет под подушкой сонник и вслух по утрам толкует свои сны с видом Иосифа перед фараоном.
Что же символизирует старый еврей с кустистыми бровями, сердито отчитывающий внука за необдуманное решение? Что символизирует вся их непривычная, словно слизанная из кинофильма про семейную жизнь, обстановка? Столик, за которым ведется партия, электрический свет, тени от фигур, отчаянье, когда мальчик(и я с ним) принимает неправильное решение и сжимается, сжимается под тяжелым дедовским взглядом.
Они так часто приходят ко мне, что я стала узнавать их, как родных. Сегодня я записала, какого цвета были гардины, как чувствовался шеей воротничок, какой была на ощупь деревянная фигурка коня. Я несколько раз перечитывала этот сон, пока не начала погружаться в дрему. Кажется, если досмотреть этот сон до конца, я выиграю партию, и тогда, может быть, тогда мне наконец удастся вспомнить самое важное о том, как я сюда попала.
Я записываю каждый жест, каждую деталь, которые дарят мне новые серии сна, и боюсь, что они так же покинут меня, как и воспоминания, один за другим, ведь тогда у меня не останется ничего, кроме пустой головы, в которой и подсмотреть-то нечего.
ТЕКСТ 6
читать дальше- Моня! Ты идиёт! Ты же умный мальчик! Твой дедушка играл в шахматы лучше, чем шулер Йося с того привоза. Где твой мозг? У нас стеллаж книг по шахматам, возьми хотя бы одну и прочитай!
Голос деда рокотом начинает переливчато разливаться, накатывая волнами истерии, злости и занудства, сменяющими друг друга в системе координат, понятных только моему деду. Причем занудство бесит больше. Лучше бы он рассказывал, как три раза в своей жизни он ходил на занятия по музыке со скрипкой и их солил. Это и то не так занудно, чем этот черно-белый мрак. Я их ненавижу. Это самая гадкая и тоскливая игра в моей жизни, и дедову седую бороду, изрыгающую проклятия, демонстрирующие атрофированность моего мозга, хочется выщипать, как бороду у козленка.
- Шлимазл! Кошачий хвост!
Дед переходит на визг. Кот, спящий рядом подпрыгивает от удивления, вскакивает и убегает с горящим взглядом. Вот! Вот оно! Я должен сделать, как кот! Он мне надоел с этим дерьмом! Кровь подбрасывает меня в нечеловеческий прыжок, прыгаю на шахматную доску и пару раз хорошенько по ней пробегаю.
- Оставь меня в покое! В покое!!!
Убегаю в сад. В низинке сада, под шелковицей я ловлю на себе заинтересованный кошачий взгляд. Маркиз! Ты один у меня. Тихонечко ложусь на мох под деревом, обнимаю черно-белого кота, тихое мурлыкание, успокаивающее Маркиз дарит только мне, мы с ним настоящие друзья, жил бы он вечно. Так я и засыпаю, под кошачью песнь.
Созерцание сна странном образом наводит оцепенение на мои мозговые извилины, Во сне – я взрослый, вернее - взрослая, я женщина, к слову сказать, вполне себе такая красивая. Черные локоны волос, стройное тело. Во сне на мне почему-то любимые туфли моей мамы, лаковые, с невообразимым каблуком. Я готовлю каре индейки под карри и пасту под соусом песто. Запах индейки заполняет пространство уютной кухни с белой мебелью. Скоро на запах явно прибегут муж и сын с рыбалки...
ТЕКСТ 7
читать дальшеКогда на День Благодарения приходит её отец, то всегда сам желает разрезать индейку. Это сильно не нравится её мужу, но он работает на её отца, а потому терпит. Но она видит, какие складки за эти годы появились около его рта – упрямые злые складки, кричащие, что он будет мстить так, как сумеет, будет мстить отцу через дочь. И она старается стать незаметной, скрыться от взгляда прозрачных злых глаз.
В их семье никогда не происходит ссор, но иногда она жаждет, чтобы всё вырвалось наружу. Торфяной пожар, которой бушует под землёй. И у неё желание содрать полосу травы и посмотреть прямо в пылающую преисподнюю.
Она ходит с фланелевой старой тряпкой, которая когда-то была фланелевой старой сорочкой в цветочек, и протирает, снимает с вещей и мебели защищающую патину, смотрит на неприкрытую голую суть.
Фотография сына в белёсой рамочке. Он позирует на фоне деревянной школьной двери, вернее, мрачно смотрит прямо в фотокамеру, скрытный и молчаливый. Внезапно приходит мысль, а что если они не вернутся? Летний день жужжит голосами насекомых, но напольные часы тихо отсчитывают секунды и с каждым тиканьем секундной стрелки в ней всё больше нарастает беспокойство. Она видит, как внезапный и короткий порыв ветра переворачивает лодку, та опрокидывается беззвучно, нет ни единого всплеска, пассажиры не пытаются всплыть, только перевёрнутая лодка плывёт по воде. И женщина знает, что если прочитает название «Розалин», плывущее вверх ногами, то воображаемое станет реальностью.
Следующие десять минут она режет адово-пламенную морковь на кухне, но потом не может вспомнить, как хотела её использовать. Женщина знает, что соседка из домика слева каждый день после четырёх часов выпивает два бокала вина и женщина думает, что так лучше, много лучше, чем оставаться наедине со своими мыслями. Она включает телевизор, чтобы прогнать тишину, затаившуюся по углам. Мужчины поехали одни, потому что катание на лодке не женское дело. Она навсегда останется в тихом домике. Сын вырастет и уедет, отец умрёт и муж с тайным, таящимся удовлетворением сам будет разрезать индейку и каждую субботу ходить в бар на весь вечер. А ей останется только тиканье. Она сидит в кресло у телевизора и не может сосредоточиться на сериале, продолжает слушать тиканье.
Если я помогу кому-то сегодня, решает она, то лодка не перевернулась. Они вернутся в пять часов пополудни, она выложит на стол жаренную курица и кукурузу. А потом весь вечер они будут играть в «Монополию», пока муж не заскучает и не врубит телевизор, где начнётся детективный сериал.
Она стучит правой рукой в дверь соседнего дома, в левой сжимает тарелку с желе. «Я приготовила лишнее», скажет она, «не хотите ли угостить своих малышей?» Никого нет. Ещё нет четырёх часов, но миссис Брайд уже могла принять два бокала вина. Или больше. Но она уехала вместе с семьёй. Они куда-то уехали вместе и их часы тикают сами для себя.
Она сидит на кухне, на столе тарелка с желе. Желе начинает подтаивать. У неё есть телефон, но она не знает кому позвонить. Лодка, меж тем, подплыла совсем близко. И она читает с конца – перевёрнутая n превратилась в u, y стала странной фигурой альфой из школьных задачек по арифметики. Нельзя читать всё слово. Если бы она была общительней, то у неё были бы школьные подруги, которым она могла бы позвонить или если бы она прилагала больше усилий, чтобы узнать значение загадочной альфы, она бы стала учёным, они бы жили в большом городе и её отец не смог бы приезжать к ним на День Благодарения…
Сквозь открытую дверь влетает деловито жужжащий жёлто-чёрный самолётик. Пчела садится на желе и мнёт его лапками. Набирает в хоботок сахар и пытается вылететь через закрытое окно. Жёлто-чёрная грудь бьётся в твёрдое стекло и этот удар отбрасывает тельце на подоконник, но пчела поднимается в воздух и пробует снова, бесполезно снова и снова бьётся об стекло.
Женщина смотрит на пчелу, потом берёт фланелевую тряпку, открывает окно и выгоняет пчелу наружу. Идёт в комнату, открывает механизм часов и недолго смотрит на крутящиеся шестерёнки.
Потом протягивает руку и тянет за какую-то цепочку, стоит только преодолеть сопротивление, как раздаётся противный чавкающий звук, похожий на предсмертный вскрик, одна из шестерёнок сходит со своего места и стрелки замирают. «Даже не обратила внимания, когда они перестали ходить», так она скажет.
Оставшись без поддержки, тишина скромно подбирает юбки и скрывается за порогом. Телевизор раздражает бубняжом, потому что и без того шумно от летней разноголосицы. Женщина чувствует себя уставшей, она больше не видит перевёрнутую надпись «Roselyn», нет, перед её внутренним взором проносятся бесконечные мушки и кукурузные зёрна. Она ложится на кушетку и пытается сосчитать жёлтые кукурузные квадратики, и когда она уже почти сосчитала, так не хочется раскрывать глаз…
Богатая клиентка забыла сегодня на сиденье шарф. Тонкий, шёлковый, в мелкий цветочек. Он прикладывает к щеке нежную ткань, словно прикосновение женских пальцев. От шарфа пахнет какими-то духами и он чувствует, как напрягается от возможного чувственного наслаждение. Если бы ткань не была такой подчёркнуто женской, он бы обмотал шарф вокруг шеи. А так он задирает рубаху и завязывает на себе ткань узлом.
Повозку по окончании дня следует привезти в сарай, где за небольшую плату за всем транспортом присматривает старик-вьетнамец. Оглобли за день натёрли плечи, но там уже такие мозоли, что маленький рикша не чувствует тяжести. Проследив, что повозка осталась в сарае («гараж» - так называл этот сарай отец), рикша скрывается в первой подворотне и прячет заработанные за день деньги в башмаке. «Чем больше мозоль на плечах, тем больше должна стать мозоль на пятке». Он сам сочинил эту мудрость и ему приятно представлять, как он будет пересказывать её своим внукам. Хотя если он задумывается о будущем, то мечтает, чтобы у его детей и внуков была более обеспеченная жизнь. Он не знает, как этого добиться, потому о будущем он думать не любит.
На его пятке нет мозоли, но ему приятно, что мешочек с деньгами врезается в мягкое место между пяткой и носком. Иногда он сильнее налегает на правую ногу, чтобы почувствовать эту приятную боль.
Около адово-пламенных мусорных баков он невольно замедляет шаг. Банда Джен Йи никогда не отнимала у него денег, но он всё равно не хочет с ними встречаться. Он пытается поторопить свои замершие ноги, но те налились свинцом и даже начали хромать.
- Смотри, кто здесь, - слышит он из переулка. Его хватают грубые руки и тянут за мусорные баки.
- Бедняга, слабак… , - толчок за толчком, он перелетает от одного мучителя к другому. Рикша не слабый, каждый день он тянет на себе тяжёлую повозку. Но это не та сила. Он не может воровать, как они, и ни разу не присоединился к ним, хотя живёт в их районе. Он только смотрит иногда издалека и если они замечают его робкую слежку, то бьют.
Сегодня они в благодушном настроение, потому просто перекидывает его друг другу как игрушку. Он не сопротивляется и его тщедушное тело испытывает толчок за толчком, пока он не спотыкается и не падает на колени. Узелок с деньгами выпал из ботинка. Локтевым захватом рикшу хватают за шею и поднимают на ноги. Его голова прижата к гладкой полосатой куртке Джен Йи. Его держит сильная рука, затылок прижали к мускулистой груди. Над ухом он слышит голос Джен Йи:
- Подглядывающий. Всё не занимаешься мужской работой, а?
Рикша дрожит, а потом начинает сопротивляться, но его только крепче сжимают.
- Лошадка. Вот как мы тебя будем звать. Лошадка. Хорошо возить на себе туристов, лошадка?
Захват ослаб и рикша снова падает на колени. Джен Йи наступает на узелок и монетки вываливаются одним комом в грязь.
- Приходи завтра вечером, возьмём тебя на настоящую работу, если ты способен работать как мужчина, лошадка.
После того как банда Джена Йи уходит, рикша некоторое время ползает на коленях, чтобы убедиться, что ни одна монетка не потерялась. Остаток пути деньги он несёт в кулаке и сразу отдаёт их матери. Миску риса он ест лёжа на свой лежанке, потом отставляет пустую посуду, вытягивается и отворачивается к стене. Приподнимает рубаху и развязывает шарф. Он слишком нежный… Ткань чересчур мягкая и рикше становится неприятно, но он продолжает и продолжает пропускать шарф сквозь пальцы, пока не начинает чувствовать его атласность, гладкость… Он кусает себя за внутреннюю сторону щеки и прикладывает шарф к затылку, словно снова прижат к гладкой куртке Джена Йи…
ТЕКСТ 8
читать дальшеДом, где живет семья.
Стена слева, стена справа, крыша над головой, пол под ногами. Так просто, как мать-земля, как небо, и лампа-солнце над головой.
Слово - дом, где живет смысл. Линия - путь смысла. Иероглиф - ткань линий, ткань бытия.
Иероглиф "человек": линия слева, линия справа. Небо над головой.
Иероглиф "сила": хромой плуг с затупленным концом. Вспаши землю-мать, пот прошибет, мускул взыграет, и вот она. Сила.
Иероглиф "повозка": два креста и ящик посередине. И мать-земля - над головой. Шепчет: беги, рикша, тупым концом вперед .
Человек, сила, повозка.
Рикша.
Иероглиф точен. Семья - голодна. Мускул развит на все семнадцать. Земля жаркая, неприветливая. Солнце кадит смогом Шанхай. Линии дорог сплетены в клубище без смыслов. Ткань города с его узорами и венами впечаталась в ноги, в рисунок кожи. Беги, рикша, человек-повозка, сила-человек.
Город дышит, бурлит. Звенит юань, нога топчет взмокшие лопатки улиц. Ум давно ушел в ногу, а в голове - твердая кость.
Юани ушли в дом, всё в дом, где живет семья, и стена слева - добрая, холодная, а стена справа - дышит. Еще дышит, пока дышит рикша на все семнадцать, всей твердой линией своей кости.
Сила - в тверди. По ней катится колесо повозки, кругло и ладно.
Беги, рикша, - кричит сидячий.
Нет, рикша. Приляг, - зовет мать-земля. Шепчет, манит. Холодит, по-доброму. Ветвистое дерево - как стена родного дома. У стены - старый матрас, покрыл тайное: четки деда, с плена, с войны. Круглые, костяные, сильные.
То сильно, что нанизано по одному и образовано в целое. Зубы на челюсть. Ребра на позвоночник. Гирлянда фонариков. Звезды на небе. Вселенная на кончике ножа.
Приляг.
Закрой глаза - будут звезды. Небесные фонарики.
Только ты еще не видел таких гирлянд.
Прислонись к дереву - позвоночник.
Только не было у тебя доселе таких ребер. Не было такого ножа.
Спи.
Уже вечер.
В Гвадалахаре нет линий. Резкие гласные режут ножом воздух: смеешься ты. Впервые в жизни, под созвездием Рыбы, под тканью небес. В улицах нет линий: гладко, как море. Цвет и взрыв радуги. Твой смех. Полотно.
Не беги: некуда. Твой дом за спиной. На крыльце - смуглая мать. Лицо - узор из морщинок. Кожа впечатана в твердую кость. Чуткие пальцы нанизывают бусины, по одному. Одно целое, два целых, три - ожерелье, четвертая - звезда. Россыпь созвездий - на твоих коленях. Звенит песо - твоя девичья кисть нырнула в клубья бус. Радуга перетекла на чью-то шею.
Теплый сон, круглое небо. Другой конец земли. Здесь слово "земля" пишется буквами.
Слово "человек" - бессмысленно.
Слово "сила" - нежнее волны. Мягче подошвы.
А повозка едет сама.
На ней ящик. Грустное дерево, срубленный позвонок. Крест справа, крест слева. Стены родного дома. Небо Шанхая. Воздух Гвадалахары, гуще морской пены. В ящике - рикша, закрытыми глазами в небо.
С четками-бусинами на шее.
С четками, купленными у самого себя.
авторы2 текст - Света Тевиа
3 текст - Синичка
4 текст - Тинкер
5 текст - Олеся
6 текст - Соня
7 текст - Энджи
8 текст - Саша
ТЕКСТ 2
читать дальше– Я решила почистить желудок, не есть мясо, молоко, яйца и масло. Это все не просто так придумали, в этом есть рациональное зерно.
Он скосил глаза на постное лицо племянницы. Строго говоря, она была ему никто – племянница жены его сводного брата, но появлялась на пороге его палаты чаще всех кровных родственников вместе взятых. Садилась на стул у кровати и самозабвенно вещала о своем житье-бытье, зарабатывая себе путевку в буддийский рай, или куда там еще она намылилась после смерти. Принадлежала она к тому сорту женщин, что в 25-ть и в 45-ть выглядят одинаково пресно и о себе полагают, что под невзрачной внешностью скрывается натура незаурядная, а правильнее сказать, придурочная. Он ее хорошо изучил.
– Сперва я не знала, что же кушать, но оказалось, что без мяса можно приготовить множество интересных и полезных блюд. Овощные супчики, печеные на гриле овощи, фрукты – никакой химии.
Не сдерживая болезненной гримасы, он поправил подушку за спиной и попытался поудобнее угнездиться в кровати. Ноги болели немилосердно, и то, что нога была всего одна, дела не меняло. Болели – ноги, обе.
– Люди так жестоки! Как можно кушать тех, кто смотрел на тот же мир, что и они? Видел это голубое небо, эти белые облака? Блюда из мяса пахнут трупом!
Он стиснул зубы. Вместо племянницы у кровати сидел Лопушок, по-прежнему 23-летний, лопоухий и веснушчатый, смущенно и виновато улыбался, прикрывая ладонью аккуратную дырку на лбу. «Пусть ее», – произнес одними губами. Там, в проклятой долине, Лопушок трепался, не затыкаясь, страх извергался из него словесным потоком, а рассказывал он о любимых кушаньях, что готовит его мамочка. О вишневом пироге, о запеченной бараньей лопатке, о картофельном пюре, нежном, без единого комочка, о курице, тушеной со сладкой кукурузой. Когда на завтрак, обед и ужин получаешь галеты с тошнотворной консервой и глоток гнилой воды, слушать непрерывно о воскресном ужине то еще испытание. Лопушка высмеивали и незаметно от сержанта били, потом оставили и как-то притерпелись к безостановочным одам о зеленом горошке и порезанной кольцами солнечной моркови. Когда сидишь по уши в болоте, весь в парше и собственном дерьме, единственное, что заставляет тебя оставаться человеком, – мысль о начищенной до блеска кастрюльке в штате Теннесси, в которой по воскресеньям твоя мама делает тефтельки.
Но здесь и сейчас почему он должен выслушивать все это заново?
– Сколько можно говорить о желудке?! – он обнаружил, что кричит в вытянувшееся лицо племянницы, а палата вращается по кругу. – Тебе поговорить больше не о чем?
Откуда-то сбоку вынырнула Милочка со шприцем, и палата притормозила вращение, а потом плавно взлетела вверх, за круглыми окнами со смешным названием «иллюминаторы» проплыли ватные облака, и ничего не болело и не могло болеть, потому что ему было снова восемь, он был девочкой с тонкими косичками, что летела на самолете с мамой и папой к морю, навстречу летнему долгому отпуску и долгой-предолгой счастливой чистенькой жизни, и это было так хорошо, что не хотелось просыпаться.
ТЕКСТ 3
читать дальше
Са-ма-лёт! Са-ма-лёт!
По узкому проходу между креслами мама тянет за руку куда-то вперед. Са-ма-лёт!
Папа долго говорил о том, как они полетят, как са-ма-лёт уберет закрылки, как он будет набирать высоту, как будет закладывать ушки и надо делать вооот так, и смешно надувал щеки. Са-ма-лёт.
Почему-то кресло очень колючее. Мам, оно колется! Я хочу на ручки! Сзади сидит дяденька, он улыбнулся. Мама говорит: не крутись. А кресло колется, на ручки нельзя, потому, что я уже большая, мне купили билет, тут иллюминатор.
Холодное стекло, и колючее кресло. С ногами на кресло тоже нельзя, папа застегнул ремень и подмигнул, снова сказал про закрылки и ушки. А я не хочу надувать щеки.
- Мам, я хочу пи-пи.
Вместо пи-пи – леденец. Моя кукла в папиной сумке, я по ней уже соскучилась, но сумку у нас забрали и привязали на нее желтенькую бумажку. Папа сказал, что я получу и бумажку и куклу, когда прилетим.
В иллюминаторе побежала земля, деревья стали мельтешить, как будто мы едем на папиной машине за город. Мам, смотри. Пап, смотри.
Холодное стекло, а за ним – уходящий за горизонт яркий диск закатного солнца. Солнце становится ближе, а земля оказывается где-то внизу, и, правда, закладывает ушки.
Мама прижимает к себе, и розовые облака в иллюминаторе кажутся шариками сладкой ваты, которую продают в парке аттракционов.
- Спи, детка.
Вот уже и вечер, солнце - за горизонт, где-то наступает утро.
Кубинские сигары, едкий дым, разбавляющий минорную ноту закатного пейзажа… Ставка на «Белую лошадь», чтобы не мучила совесть, казалось бы, задорого проданная и давно забытая.
Розовые облака, как сахарная вата из детства…. вы любили бегать в парк и покупали один шарик на двоих…. на два просто не хватало денег…
Злое кольцо дыма, терпкого, едкого, но сквозь дым чудится легкий летний день, быстрые ноги по траве за голубым воздушным змеем, нетерпеливо дергающим веревку, требующим высоты и свободы.
Высоты и свободы. Да.
Ставки сделаны…. На белую лошадь…. Темная лошадка проиграла и получит пулю в висок. Лошадей пристреливают, если они больше не приносят прибыли, если они везут не туда, пристреливают, несмотря на то, что были верны и ели из рук.
Солнце уходит за горизонт, скрыв сахарную вату воспоминаний, принятое решение уже не кажется таким неправильным. Ничего личного – это деловой подход.
ТЕКСТ 4
читать дальше
Солнце на закате в этот время года кроваво-красное, цвета спелого тарокко. Оно было достаточно ярким, чтобы дорожка от горизонта пролегла до самого причала, но уже таким, что на него можно было смотреть, не щурясь и не поднося руку к глазам. Он любил это время. Огромная веранда его загородного дома была обращена на море, несмотря на то, что все поколения его предков, так же страстно любящих море, никогда не обращали окон на море. Причина была в трамонтане, дующей с Альп, трамонтане, приносящей холод, ясную погоду и безумие. Трамонтана лишает рассудка - так говорили его предки и заколачивали окна на те долгие дни, когда дикий ветер обрушивался на их землю. Но он слишком любил море и поэтому закрыл веранду толстым слоем непробиваемого стекла, только бы не лишать себя радости. Это стекло защитило его от двух пуль "беретты", но не защитило от микробов безумия. Сегодня за завтраком, ковыряя вилкой яйцо-пашот, он обнаружил, что яйцо было двухжелтковым. Внезапно вспомнив, что бабушка почитала несчастливым тот день, в который хоть одна курица приносила такое яйцо, он тихим голосом отдал капо приказ убрать первого же, кто позвонит или придёт к нему. Никто не виноват, что им оказался тот, с кем он в детстве удил рыбу со скал, тот, на чью сестру он не смел поднять глаз, а во время её свадьбы убежал в поле и плакал в голос. Это судьба, а я всего лишь её орудие, сказал он себе, и, подчиняясь единственному закону своей родины, закону сиесты, закрыл глаза...
...чтобы открыть там, где масло давят уже не из олив, а из кукурузы, на другом краю земли, под другим небом, в другом теле, открыть на рассвете в душной палате от страстного желания курить, так и не оставившего тело за всё время пребывания в аду. Она думала в детстве, что ад - это огонь, котёл и кипящее масло, но оказалось, что ад - это когда тебя слушают, но не слышат. Когда всё, что говоришь, оказывается твоим приговором, а лишняя слезинка или всхлип неминуемо влекут за собой укол трементина, от которого ноги распухают и становятся как тумбы. Это когда муж, улыбаясь, говорит лечащему врачу: "Она всегда была такой эмоциональной", вместо того, чтобы вонзить ручку с золотым пером ему в глаз, оттолкнуть толстую охранницу и унести её отсюда. А когда ты в припадке бешенства разбиваешь портрет президента в холле, тебя поливают ледяной водой из шланга. И утром, проснувшись в собственных нечистотах, привязанная к кровати за запястья и щиколотки, ты кричишь, пронзительно кричишь, теперь уже как настоящая сумасшедшая.
ТЕКСТ 5
читать дальше
Когда я распахнула окно - посчитать, сколько там этажей до забора (надо сказать, наша палата весьма удачно повернута окошком к высоченному дубу), из другого окошка - окошка больничной кухни, что на первом этаже, запахло пирогом с патокой. Настоящим пирогом, я чуть не прослезилась и вжалась в решетку, чтобы вобрать запах во все легкие, настолько он был вкусный и родной. Пахло вот таким же точно пирогом, как ма готовила в детстве, и Большая Джорджия сетовала:"Мистрис Нэнси, вы испортите пирог, переслащивать куда хуже, чем недосластить. Кто ест несладкое, тому Господь по ложечке подслащивает жизнь, а кто себя балует сладеньким, к тому дьявол присматривается", а Малая Джорджия крутилась у материнской юбки, мы с ней словно два мышонка выскакивали на кухню на этот чарующий аромат, хотя никто никогда не давал нам пробовать ни кусочка во время готовки.
Все левое крыло погрузилось в удручающее молчание, так что я снова почувствовала себя безнадежно одинокой и потерянной посреди древнего Вавилона, расколотого на разные языки. И хотя за месяцы я стала настоящим полиглотом, различая, что хочет сказать миссис Каннингем своим потрясыванием руками перед лицом, либо юный Дерек Бейл, когда вместо ответа он карябает на бумаге жуткие каракули, тень вавилонской башни вновь накрыла мое сознание. Я была чужой среди чужих, нелепо занесенной ураганом путешественницей, не нашедшей свою дорогу из желтого кирпича.
Я с силой запахнула створки, спрятав за спиной воспоминания, будто их кто-то мог подсмотреть или даже выкрасть. В такие моменты мне кажется, что глаза мои похожи на телевизор, в котором идет передача о моей жизни, и любой, кто бы ни встретился взглядом со мной, непременно подсмотрит самые интимные или постыдные вещи, скрытые за этой черепной коробкой.
Поцелуй с Кайлом Финчем на заднем сиденье родительского автомобиля, или, может, со дна глаз всплывет мамина юбка цвета морской волны, которую я тайком надевала, размахивая полами как крыльями летучей мыши, и, однажды испачкав, запихивала в гараже в ящик, чтобы сделать вид, что она просто потерялась. Или первая сигарета, которую мы раскурили с Джин Хэмилтон на заднем дворе школы(Боже! я бы все сейчас отдала за сигарету! даже воспоминания) и казались себе такими взрослыми соблазнительницами, что старшеклассники непременно должны были пригласить нас на танцы в обход других дурочек. И прочие, прочие глупости, которые совершенно случайно могут вспомниться, а ты будешь стоять и думать - к чему бы это? Ведь все давно кануло в Лету, юбка истлела, сигареты (ах, как же хочется затянуться!) не являются запретным удовольствием, а Кайл Финч сейчас может похвастаться собственным авто, с трудом вмещающим его огромное пузо.
Миссис Тоби Смайли, которая целыми днями гудит как рой пчел, раскачиваясь в своем кресле, и наводит тоску даже на тех, в чьих головах еще случаются проблески рассудка, внезапно замолчала, захрипела и уставилась на меня взбудораженными глазами. Я прикрыла веки, чтобы никому, в своем он уме или нет, не удалось ухватить кусочек передачи про побег. Мне казалось, что в моих глазах можно увидеть, как выпиливается ненавистная решетка, а я Тарзаном совершаю прыжок на ветку дерева и спускаюсь уже по ту сторону забора. Мне казалось, что миссис Смайли лишит меня даже этой малости - мечты о побеге, и когда я открыла глаза, а она снова гудела и раскачивалась, я рассмеялась своим глупым опасениям.
В пять нам раздали вечернюю порцию таблеток, и я глотала свою с мыслью не забыть это восхитительное ощущение узнавания, позволить пирогу, а вместе с ним и маме, и двум Джорджиям пожить еще немного, хотя бы в моем внутреннем кинофильме. Таблетки делают меня смирной овечкой божией, но этот чудодейственный ремедиум куда-то безвозвратно забирает другое чудо - чудо человеческой памяти. Возможно, именно поэтому я так цепляюсь за все эти обрывки и эпизодики. А тот лоскуток памяти, на котором записано, как я попала в эти жуткие стены, я расправляла не раз, но так и не смогла сшить с другими
лоскутками. Вот я, промокшая насквозь, подгоняемая раскатистым громом, стучу в ворота, уже побаиваясь громады стен и еще не зная, что они окружат меня надолго. Кажется, у меня сломалась машина. Кажется, я водила машину. С сигаретой в зубах, как заправский гангстер. Ах, как бы достать сигаретку в этом постылом месте среди грозных белых халатов, крепких черных рук и пронизывающих глаз?
Поэтому - потому что память так подводит меня - я записываю сны. Дороти - молчаливая черная медсестра, ласковая как родная мать со всеми пациентами, - согласилась принести мне блокнот и когда я попросила, чтобы никто не знал и не мог прочесть его содержимое, только приложила пальчик к губам и кивнула. Ни Железный Гэри, ни миссис Норидж - суровая как скала женщина, выводящая нас на прогулку, ни за что не согласились бы. Блокнот есть у Дерека Бейла, и бедняга целыми днями рисует в нем круги и полосы, над которыми ломают головы врачи. Я же записываю сны, а записи прячу за половицей. Кажется, я уже говорила об этом?
Когда наступает время послеобеденного сна, я отгибаю старый кусок древесины и достаю свою драгоценность, чтобы перечитать и не забыть.
Иногда сны записываются по два или три раза - я думаю, если сон пришел не раз, то стоит задуматься о деталях.
Вот когда я видела себя во сне - как это бывает - одновременно изнутри и со стороны, что бы это могло значить? Ничего не происходит просто так. Знаки даются нам, чтобы мы могли действовать.
А приснившийся мне еврейский мальчик, на которого я смотрю то сверху, будто с дерева, то изнутри смотрю на него - на себя - его глазами, мальчик, который переставляет шахматные фигуры по клетчатой доске, - он ведь тоже что-то значит? Если мне снятся непонятные буквы и цифры, которыми шахматисты называют свои ходы, если дедушка, грозно посматривающий на мальчика - и меня - своим проницательным взглядом, то сон что-то должен сказать?
Сонники говорят, что любое движение и цвет во сне символичны. Миссис Хабли, упрятанная сюда за веру в «колдовство», прячет под подушкой сонник и вслух по утрам толкует свои сны с видом Иосифа перед фараоном.
Что же символизирует старый еврей с кустистыми бровями, сердито отчитывающий внука за необдуманное решение? Что символизирует вся их непривычная, словно слизанная из кинофильма про семейную жизнь, обстановка? Столик, за которым ведется партия, электрический свет, тени от фигур, отчаянье, когда мальчик(и я с ним) принимает неправильное решение и сжимается, сжимается под тяжелым дедовским взглядом.
Они так часто приходят ко мне, что я стала узнавать их, как родных. Сегодня я записала, какого цвета были гардины, как чувствовался шеей воротничок, какой была на ощупь деревянная фигурка коня. Я несколько раз перечитывала этот сон, пока не начала погружаться в дрему. Кажется, если досмотреть этот сон до конца, я выиграю партию, и тогда, может быть, тогда мне наконец удастся вспомнить самое важное о том, как я сюда попала.
Я записываю каждый жест, каждую деталь, которые дарят мне новые серии сна, и боюсь, что они так же покинут меня, как и воспоминания, один за другим, ведь тогда у меня не останется ничего, кроме пустой головы, в которой и подсмотреть-то нечего.
ТЕКСТ 6
читать дальше- Моня! Ты идиёт! Ты же умный мальчик! Твой дедушка играл в шахматы лучше, чем шулер Йося с того привоза. Где твой мозг? У нас стеллаж книг по шахматам, возьми хотя бы одну и прочитай!
Голос деда рокотом начинает переливчато разливаться, накатывая волнами истерии, злости и занудства, сменяющими друг друга в системе координат, понятных только моему деду. Причем занудство бесит больше. Лучше бы он рассказывал, как три раза в своей жизни он ходил на занятия по музыке со скрипкой и их солил. Это и то не так занудно, чем этот черно-белый мрак. Я их ненавижу. Это самая гадкая и тоскливая игра в моей жизни, и дедову седую бороду, изрыгающую проклятия, демонстрирующие атрофированность моего мозга, хочется выщипать, как бороду у козленка.
- Шлимазл! Кошачий хвост!
Дед переходит на визг. Кот, спящий рядом подпрыгивает от удивления, вскакивает и убегает с горящим взглядом. Вот! Вот оно! Я должен сделать, как кот! Он мне надоел с этим дерьмом! Кровь подбрасывает меня в нечеловеческий прыжок, прыгаю на шахматную доску и пару раз хорошенько по ней пробегаю.
- Оставь меня в покое! В покое!!!
Убегаю в сад. В низинке сада, под шелковицей я ловлю на себе заинтересованный кошачий взгляд. Маркиз! Ты один у меня. Тихонечко ложусь на мох под деревом, обнимаю черно-белого кота, тихое мурлыкание, успокаивающее Маркиз дарит только мне, мы с ним настоящие друзья, жил бы он вечно. Так я и засыпаю, под кошачью песнь.
Созерцание сна странном образом наводит оцепенение на мои мозговые извилины, Во сне – я взрослый, вернее - взрослая, я женщина, к слову сказать, вполне себе такая красивая. Черные локоны волос, стройное тело. Во сне на мне почему-то любимые туфли моей мамы, лаковые, с невообразимым каблуком. Я готовлю каре индейки под карри и пасту под соусом песто. Запах индейки заполняет пространство уютной кухни с белой мебелью. Скоро на запах явно прибегут муж и сын с рыбалки...
ТЕКСТ 7
читать дальшеКогда на День Благодарения приходит её отец, то всегда сам желает разрезать индейку. Это сильно не нравится её мужу, но он работает на её отца, а потому терпит. Но она видит, какие складки за эти годы появились около его рта – упрямые злые складки, кричащие, что он будет мстить так, как сумеет, будет мстить отцу через дочь. И она старается стать незаметной, скрыться от взгляда прозрачных злых глаз.
В их семье никогда не происходит ссор, но иногда она жаждет, чтобы всё вырвалось наружу. Торфяной пожар, которой бушует под землёй. И у неё желание содрать полосу травы и посмотреть прямо в пылающую преисподнюю.
Она ходит с фланелевой старой тряпкой, которая когда-то была фланелевой старой сорочкой в цветочек, и протирает, снимает с вещей и мебели защищающую патину, смотрит на неприкрытую голую суть.
Фотография сына в белёсой рамочке. Он позирует на фоне деревянной школьной двери, вернее, мрачно смотрит прямо в фотокамеру, скрытный и молчаливый. Внезапно приходит мысль, а что если они не вернутся? Летний день жужжит голосами насекомых, но напольные часы тихо отсчитывают секунды и с каждым тиканьем секундной стрелки в ней всё больше нарастает беспокойство. Она видит, как внезапный и короткий порыв ветра переворачивает лодку, та опрокидывается беззвучно, нет ни единого всплеска, пассажиры не пытаются всплыть, только перевёрнутая лодка плывёт по воде. И женщина знает, что если прочитает название «Розалин», плывущее вверх ногами, то воображаемое станет реальностью.
Следующие десять минут она режет адово-пламенную морковь на кухне, но потом не может вспомнить, как хотела её использовать. Женщина знает, что соседка из домика слева каждый день после четырёх часов выпивает два бокала вина и женщина думает, что так лучше, много лучше, чем оставаться наедине со своими мыслями. Она включает телевизор, чтобы прогнать тишину, затаившуюся по углам. Мужчины поехали одни, потому что катание на лодке не женское дело. Она навсегда останется в тихом домике. Сын вырастет и уедет, отец умрёт и муж с тайным, таящимся удовлетворением сам будет разрезать индейку и каждую субботу ходить в бар на весь вечер. А ей останется только тиканье. Она сидит в кресло у телевизора и не может сосредоточиться на сериале, продолжает слушать тиканье.
Если я помогу кому-то сегодня, решает она, то лодка не перевернулась. Они вернутся в пять часов пополудни, она выложит на стол жаренную курица и кукурузу. А потом весь вечер они будут играть в «Монополию», пока муж не заскучает и не врубит телевизор, где начнётся детективный сериал.
Она стучит правой рукой в дверь соседнего дома, в левой сжимает тарелку с желе. «Я приготовила лишнее», скажет она, «не хотите ли угостить своих малышей?» Никого нет. Ещё нет четырёх часов, но миссис Брайд уже могла принять два бокала вина. Или больше. Но она уехала вместе с семьёй. Они куда-то уехали вместе и их часы тикают сами для себя.
Она сидит на кухне, на столе тарелка с желе. Желе начинает подтаивать. У неё есть телефон, но она не знает кому позвонить. Лодка, меж тем, подплыла совсем близко. И она читает с конца – перевёрнутая n превратилась в u, y стала странной фигурой альфой из школьных задачек по арифметики. Нельзя читать всё слово. Если бы она была общительней, то у неё были бы школьные подруги, которым она могла бы позвонить или если бы она прилагала больше усилий, чтобы узнать значение загадочной альфы, она бы стала учёным, они бы жили в большом городе и её отец не смог бы приезжать к ним на День Благодарения…
Сквозь открытую дверь влетает деловито жужжащий жёлто-чёрный самолётик. Пчела садится на желе и мнёт его лапками. Набирает в хоботок сахар и пытается вылететь через закрытое окно. Жёлто-чёрная грудь бьётся в твёрдое стекло и этот удар отбрасывает тельце на подоконник, но пчела поднимается в воздух и пробует снова, бесполезно снова и снова бьётся об стекло.
Женщина смотрит на пчелу, потом берёт фланелевую тряпку, открывает окно и выгоняет пчелу наружу. Идёт в комнату, открывает механизм часов и недолго смотрит на крутящиеся шестерёнки.
Потом протягивает руку и тянет за какую-то цепочку, стоит только преодолеть сопротивление, как раздаётся противный чавкающий звук, похожий на предсмертный вскрик, одна из шестерёнок сходит со своего места и стрелки замирают. «Даже не обратила внимания, когда они перестали ходить», так она скажет.
Оставшись без поддержки, тишина скромно подбирает юбки и скрывается за порогом. Телевизор раздражает бубняжом, потому что и без того шумно от летней разноголосицы. Женщина чувствует себя уставшей, она больше не видит перевёрнутую надпись «Roselyn», нет, перед её внутренним взором проносятся бесконечные мушки и кукурузные зёрна. Она ложится на кушетку и пытается сосчитать жёлтые кукурузные квадратики, и когда она уже почти сосчитала, так не хочется раскрывать глаз…
Богатая клиентка забыла сегодня на сиденье шарф. Тонкий, шёлковый, в мелкий цветочек. Он прикладывает к щеке нежную ткань, словно прикосновение женских пальцев. От шарфа пахнет какими-то духами и он чувствует, как напрягается от возможного чувственного наслаждение. Если бы ткань не была такой подчёркнуто женской, он бы обмотал шарф вокруг шеи. А так он задирает рубаху и завязывает на себе ткань узлом.
Повозку по окончании дня следует привезти в сарай, где за небольшую плату за всем транспортом присматривает старик-вьетнамец. Оглобли за день натёрли плечи, но там уже такие мозоли, что маленький рикша не чувствует тяжести. Проследив, что повозка осталась в сарае («гараж» - так называл этот сарай отец), рикша скрывается в первой подворотне и прячет заработанные за день деньги в башмаке. «Чем больше мозоль на плечах, тем больше должна стать мозоль на пятке». Он сам сочинил эту мудрость и ему приятно представлять, как он будет пересказывать её своим внукам. Хотя если он задумывается о будущем, то мечтает, чтобы у его детей и внуков была более обеспеченная жизнь. Он не знает, как этого добиться, потому о будущем он думать не любит.
На его пятке нет мозоли, но ему приятно, что мешочек с деньгами врезается в мягкое место между пяткой и носком. Иногда он сильнее налегает на правую ногу, чтобы почувствовать эту приятную боль.
Около адово-пламенных мусорных баков он невольно замедляет шаг. Банда Джен Йи никогда не отнимала у него денег, но он всё равно не хочет с ними встречаться. Он пытается поторопить свои замершие ноги, но те налились свинцом и даже начали хромать.
- Смотри, кто здесь, - слышит он из переулка. Его хватают грубые руки и тянут за мусорные баки.
- Бедняга, слабак… , - толчок за толчком, он перелетает от одного мучителя к другому. Рикша не слабый, каждый день он тянет на себе тяжёлую повозку. Но это не та сила. Он не может воровать, как они, и ни разу не присоединился к ним, хотя живёт в их районе. Он только смотрит иногда издалека и если они замечают его робкую слежку, то бьют.
Сегодня они в благодушном настроение, потому просто перекидывает его друг другу как игрушку. Он не сопротивляется и его тщедушное тело испытывает толчок за толчком, пока он не спотыкается и не падает на колени. Узелок с деньгами выпал из ботинка. Локтевым захватом рикшу хватают за шею и поднимают на ноги. Его голова прижата к гладкой полосатой куртке Джен Йи. Его держит сильная рука, затылок прижали к мускулистой груди. Над ухом он слышит голос Джен Йи:
- Подглядывающий. Всё не занимаешься мужской работой, а?
Рикша дрожит, а потом начинает сопротивляться, но его только крепче сжимают.
- Лошадка. Вот как мы тебя будем звать. Лошадка. Хорошо возить на себе туристов, лошадка?
Захват ослаб и рикша снова падает на колени. Джен Йи наступает на узелок и монетки вываливаются одним комом в грязь.
- Приходи завтра вечером, возьмём тебя на настоящую работу, если ты способен работать как мужчина, лошадка.
После того как банда Джена Йи уходит, рикша некоторое время ползает на коленях, чтобы убедиться, что ни одна монетка не потерялась. Остаток пути деньги он несёт в кулаке и сразу отдаёт их матери. Миску риса он ест лёжа на свой лежанке, потом отставляет пустую посуду, вытягивается и отворачивается к стене. Приподнимает рубаху и развязывает шарф. Он слишком нежный… Ткань чересчур мягкая и рикше становится неприятно, но он продолжает и продолжает пропускать шарф сквозь пальцы, пока не начинает чувствовать его атласность, гладкость… Он кусает себя за внутреннюю сторону щеки и прикладывает шарф к затылку, словно снова прижат к гладкой куртке Джена Йи…
ТЕКСТ 8
читать дальшеДом, где живет семья.
Стена слева, стена справа, крыша над головой, пол под ногами. Так просто, как мать-земля, как небо, и лампа-солнце над головой.
Слово - дом, где живет смысл. Линия - путь смысла. Иероглиф - ткань линий, ткань бытия.
Иероглиф "человек": линия слева, линия справа. Небо над головой.
Иероглиф "сила": хромой плуг с затупленным концом. Вспаши землю-мать, пот прошибет, мускул взыграет, и вот она. Сила.
Иероглиф "повозка": два креста и ящик посередине. И мать-земля - над головой. Шепчет: беги, рикша, тупым концом вперед .
Человек, сила, повозка.
Рикша.
Иероглиф точен. Семья - голодна. Мускул развит на все семнадцать. Земля жаркая, неприветливая. Солнце кадит смогом Шанхай. Линии дорог сплетены в клубище без смыслов. Ткань города с его узорами и венами впечаталась в ноги, в рисунок кожи. Беги, рикша, человек-повозка, сила-человек.
Город дышит, бурлит. Звенит юань, нога топчет взмокшие лопатки улиц. Ум давно ушел в ногу, а в голове - твердая кость.
Юани ушли в дом, всё в дом, где живет семья, и стена слева - добрая, холодная, а стена справа - дышит. Еще дышит, пока дышит рикша на все семнадцать, всей твердой линией своей кости.
Сила - в тверди. По ней катится колесо повозки, кругло и ладно.
Беги, рикша, - кричит сидячий.
Нет, рикша. Приляг, - зовет мать-земля. Шепчет, манит. Холодит, по-доброму. Ветвистое дерево - как стена родного дома. У стены - старый матрас, покрыл тайное: четки деда, с плена, с войны. Круглые, костяные, сильные.
То сильно, что нанизано по одному и образовано в целое. Зубы на челюсть. Ребра на позвоночник. Гирлянда фонариков. Звезды на небе. Вселенная на кончике ножа.
Приляг.
Закрой глаза - будут звезды. Небесные фонарики.
Только ты еще не видел таких гирлянд.
Прислонись к дереву - позвоночник.
Только не было у тебя доселе таких ребер. Не было такого ножа.
Спи.
Уже вечер.
В Гвадалахаре нет линий. Резкие гласные режут ножом воздух: смеешься ты. Впервые в жизни, под созвездием Рыбы, под тканью небес. В улицах нет линий: гладко, как море. Цвет и взрыв радуги. Твой смех. Полотно.
Не беги: некуда. Твой дом за спиной. На крыльце - смуглая мать. Лицо - узор из морщинок. Кожа впечатана в твердую кость. Чуткие пальцы нанизывают бусины, по одному. Одно целое, два целых, три - ожерелье, четвертая - звезда. Россыпь созвездий - на твоих коленях. Звенит песо - твоя девичья кисть нырнула в клубья бус. Радуга перетекла на чью-то шею.
Теплый сон, круглое небо. Другой конец земли. Здесь слово "земля" пишется буквами.
Слово "человек" - бессмысленно.
Слово "сила" - нежнее волны. Мягче подошвы.
А повозка едет сама.
На ней ящик. Грустное дерево, срубленный позвонок. Крест справа, крест слева. Стены родного дома. Небо Шанхая. Воздух Гвадалахары, гуще морской пены. В ящике - рикша, закрытыми глазами в небо.
С четками-бусинами на шее.
С четками, купленными у самого себя.
авторы2 текст - Света Тевиа
3 текст - Синичка
4 текст - Тинкер
5 текст - Олеся
6 текст - Соня
7 текст - Энджи
8 текст - Саша
Вопрос: Ништяк?
| 1. ащще | 5 | (62.5%) | |
| 2. норм | 2 | (25%) | |
| 3. яннп | 1 | (12.5%) | |
| Всего: | 8 | ||
@темы: Реинкарнация, Текстовки, Контактота



 Даже теперь мечта о лего-рыцарском замке остаётся просто мечтой, потому что ну какой мудак будет тратить по 10к на это, ну???
Даже теперь мечта о лего-рыцарском замке остаётся просто мечтой, потому что ну какой мудак будет тратить по 10к на это, ну???